
Чтобы поняли. Переводчики русской классики – о радостях и сложностях своей работы
Сергей Виноградов18.12.2018
Слово жираф в греческом языке состоит из тринадцати букв и шести слогов. А в русском животное с длинной шеей уместилось в два слога. Но это не помешало греческому переводчику Димитриосу Триантафиллидису подарить землякам стихотворение Николая Гумилёва «Жираф». Перевёл так, что сохранилась музыка гумилёвского стиха, а жираф не превратился в носорога или другого африканского зверя.

Впрочем, подобные языковые ребусы переводчики русской классики считают отнюдь не самым трудным в своей работе. Основная сложность, по их словам, состоит в передаче исторических реалий, в которых происходит действие, и причудливого лексикона персонажей. Чтобы произведения были понятны современному читателю. Три известных переводчика (из Израиля, Греции и Италии), которые брались за те произведения русских писателей, от которых отказывались их предшественники, рассказали «Русскому миру», как выходят из сложных ситуаций. А именно – пишут предисловия и послесловия, составляют словари лексикона того или иного автора и придумывают слова, которых не было в их родном языке. В итоге переводное издание становится не только дверью в мир Достоевского, Шаламова или Хармса, но также окном в российскую историю и русский менталитет.

Зощенко на греческом: Эверест для переводчика
Уроженец города Салоники Димитриос Триантафиллидис – дипломированный философ Киевского университета имени Шевченко, в котором учился с 1979 по 1985 годы. По его словам, в СССР попал по распределению благодаря коммунистической партии Греции. Русские книги он начал переводить ещё во время учёбы, и первым переведённым произведением были труды богослова Павла Флоренского.
После ряда богословских и философских трактатов Димитриос взялся за художественную литературу. На сегодняшний день он перевёл и издал более восьмидесяти книг русских писателей – в этом собрании имеются «Дневник писателя» Фёдора Достоевского, «Облако в штанах» Владимира Маяковского, сборники Ахматовой и Цветаевой и многое другое.
«Русский язык очень удобен для греческого переводчика», – говорит Димитриос, который просит русских собеседников называть его Дмитрием. – «Языки очень близки, и многие корни совпадают. Построение предложения, фразы, абзаца – тоже общее. Эта близость очень помогает и в стихотворном переводе. Получается соблюдать музыку русского стиха. Труднее других лично для меня Марина Цветаева, которая во многих своих стихах играет с сочетаниями звуков и букв, с перекрёстной рифмовкой и так далее. Перевести это очень сложно. А к Хлебникову у меня были другие вопросы – содержательные. Было непонятно, чего он хотел сказать. А если не понимаешь сам, как это переводить? К счастью, среди моих друзей немало российских филологов и они меня консультируют. Греческим читателям Хлебников очень понравился, они его поняли».
Три года Димитриос Триантафиллидис выпускает толстый журнал «Русская степь», посвящённый русской и русскоязычной литературе и культуре. В журнале публикуются переводы Димитриоса и интервью, которые он берёт у современных российских писателей. «Греческие издатели опасаются издавать русских писателей, потому что кроме Толстого, Достоевского, Чехова и Горького (плюс ещё несколько фамилий) греческие читатели никого из российских авторов не знают», – говорит Димитриос. – «Поэтому пришлось открыть своё издательство. Мы публикуем произведения Михаила Булгакова, Андрея Платонова и других больших русских писателей, чьё творчество было неизвестно в Греции. Весной 2019 года в Греции выходит платоновский "Котлован" в моём переводе. Мне говорили, что его невозможно перевести. А я отвечал, что Платонов мне не страшен, потому что я Зощенко переводил с его своеобразным юмором, скрытым в словах, а не только в ситуациях. И греки смеются, читая Зощенко, а это – лучшее признание моего труда, как переводчика».
Каждое из своих произведений Димитриос снабжает обширным введением и множеством ссылок и комментариев, в которых рассказывает об исторической эпохе, когда был написан текст. «Когда случилась Куликовская битва и что она значит для российской истории, что такое Лубянка – русские тексты насыщены названиями, упоминаниями о событиях, о которых греческий читатель не знает, а у русского они на слуху. Вы не представляете, как их много», – говорит переводчик. – «Возьмите "Реквием" Анны Ахматовой, который я перевёл. Вы можете себе вообразить, как много потребовалось пояснений для читателей, которые не знают о сталинских репрессиях».

Лермонтов на итальянском: не усложнять простое
Переводчик из Италии Стефано Гардзонио убеждён – чтение есть процесс сложный, это самая настоящая работа. И готовить переводную литературу нужно так, чтобы читатель получал максимум информации о произведении, авторе, эпохе и так далее. «Есть переводчики, которые не любят сноски», – говорит Стефано. – «И их можно понять. Я помню, как мы изучали в школе древнеримских и греческих классиков, и эти издания были переполнены сносками и комментариями. Я считаю, что комментарии нужны, но в меру. Здесь большую роль играют издатели, а они далеко не всегда соглашаются размещать комментарии, чтобы не отпугнуть читателя. Но настоящая литература должна открывать что-то новое, а для развлечения можно почитать детективный роман».
Стефано переводил не только Лермонтова, Тургенева и Достоевского, но также брался за Ломоносова и Державина. Наиболее сложными для перевода русскими писателями он считает Лескова, Ремезова и Пильняка. Можно перевести их дословно, но получится лишь пересказ сюжета, а художественность, которая и вывела их в большие писатели, улетучится. Стефано Гардзонио рассказывает, что многих русских классиков, включая Достоевского и Толстого, в Италии перевели как авторов философских концепций, а не как художников и мастеров литературного стиля. «У нас есть целая школа исследователей, которые много пишут о Достоевском, но читали его только в переводе», – говорит он.
«Кто из русских писателей был самым сложным для меня? Назову Лермонтова», – говорит Стефано. – «В прозе у него обманчиво простой стиль, без украшательств. И когда начинаешь переводить его так же просто, очень боишься, что впадаешь в банальность. Есть большой соблазн усложнять то, что просто».
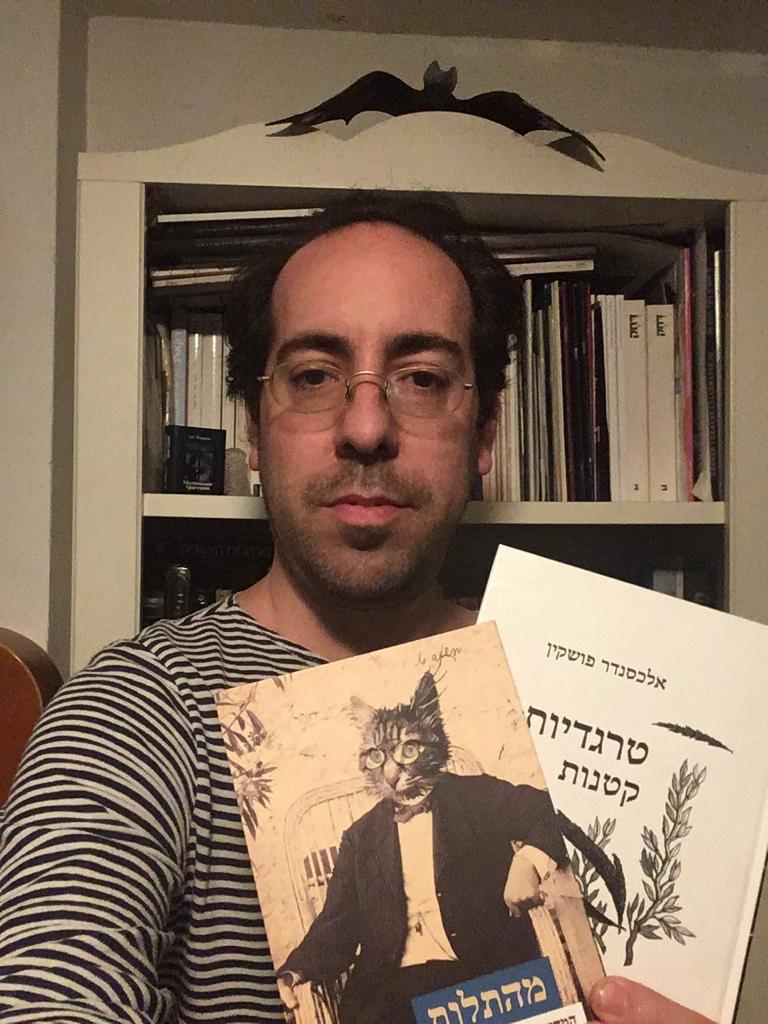
Рой Хен
Шаламов на иврите: «доходяги» и жаргон
Роя Хена из Тель-Авива считают переводчиком, открывшим читателям Израиля писателя-лагерника Варлама Шаламова. «Колымские рассказы» в переводе Роя Хена имели хороший резонанс и получили восторженные отзывы. Причём как от местных жителей, так и от русскоговорящих эмигрантов. «Для многих израильтян эта книга стала откровением», –рассказал Рой Хен «Русскому миру». – «Для нас эпоха середины XX века всегда была связана с трагедией народа Израиля, с холокостом. Оказалось, что в Советском Союзе в то же самое время страдали миллионы людей. Эмигранты из СССР тоже восприняли эту книгу очень хорошо. Их радует, что жители Израиля могут узнать правдивую информацию о событиях, которые происходили на их родине в те годы».
Правдивый Шаламов – это лагерный жаргон, из которого можно составить целый словарь. Рой Хен так и сделал – написал слова в русской транскрипции и в переводе, и привёл их значения. «Некоторые слова пришлось придумывать», –рассказывает он. – «Например, "доходяга". Эквивалент этого слова существует на идише – "музльман", так называли людей в нацистских концлагерях. Можно было и так перевести, но это рождало бы у читателя ненужную ассоциацию, и исказило бы персонажа. Поэтому я придумал своё слово, которым перевёл "доходягу". Но объяснять пришлось не только лагерный сленг, но даже то, какие на Колыме ягоды и деревья».
Когда взялся за перевод романа Достоевского «Бедные люди», без составления словаря тоже не смог обойтись. «Маточка», «ангельчик», «голубчик» – так называет Макар Девушкин свою адресатку Варвару Алексеевну, и это только на первой странице. Рой Хен составил перечень уменьшительно-ласкательных слов, которыми оперирует Девушкин, и объясняет, как переводится и что означает фамилия главного героя.
Рой Хен начал изучать русский язык в родном Тель-Авиве в возрасте 16 лет («учил сам, дома – с пластинками, книгами и друзьями»), поскольку увлёкся русской литературой. Первым автором, которого он захотел перевести, стал Даниил Хармс. Рой признаётся – сел переводить Хармса, потому что хотел его прочитать по-настоящему и понять. Книга прогремела и ныне является библиографической редкостью. Сейчас он переводит для издательств и для театра (Рой издал на иврите короткие пьесы Чехова и пушкинские «Маленькие трагедии»), говорит по-русски почти без акцента и женат на москвичке. «Русский язык окружает меня: я работаю в театре "Гешер", который был открыт москвичами 28 лет назад, многие мои лучшие друзья – уроженцы Советского Союза», – говорит Рой. – «Без знания русского языка в Израиле тяжело. Знаете, для меня перевод – это учёба. Я помимо переводов пишу свои произведения – романы, пьесы. И перевод – это мои университеты, я беру курс у классиков, и многому у них учусь».
Также по теме
Новые публикации

 О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.
О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.  В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.
В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.  Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?
Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?  Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.
Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.  Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».
Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».  С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.
С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур. 


